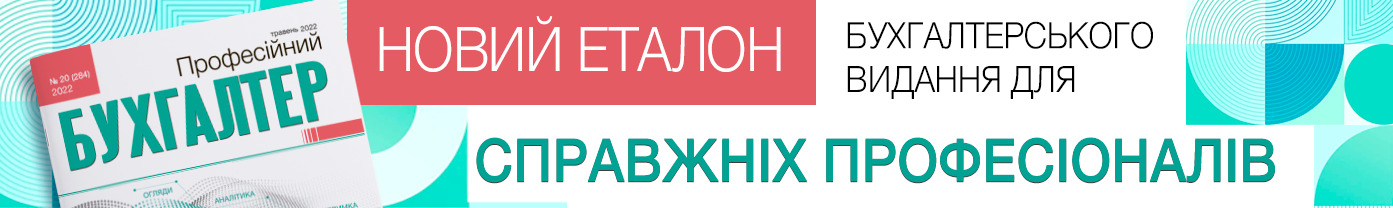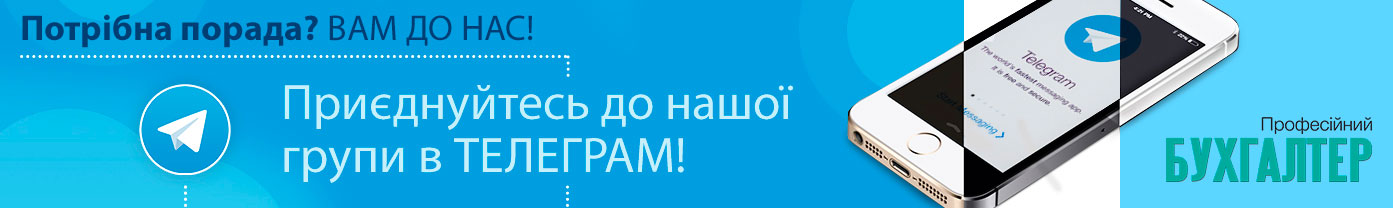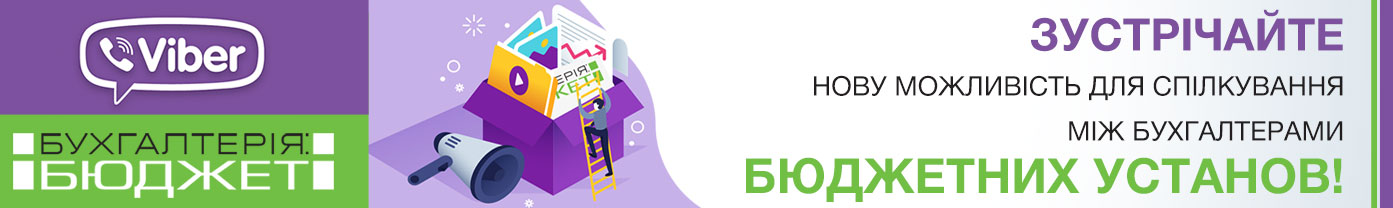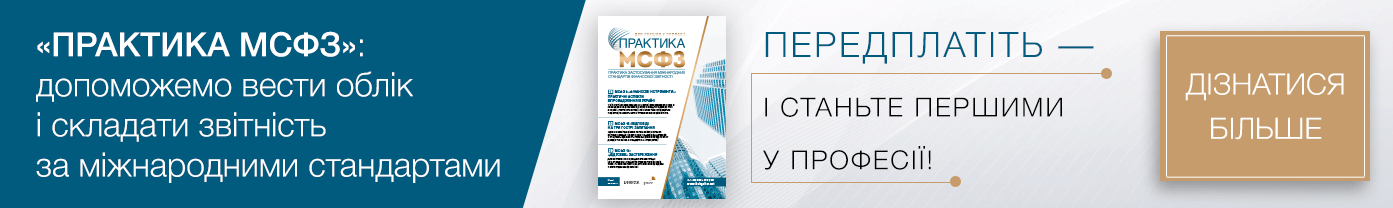Минфин комментируемым приказом внес изменения в несколько национальных стандартов.
Комментировать положения национальных стандартов — дело неблагодарное. Ведь они не отличаются системностью и внутренней логикой. Здесь мы можем только посочувствовать тем бухгалтерам, которые ими пользуются, и предложить свой взгляд на сентябрьские П(С)БУ-изменения.
Проанализируем кратко суть этих поправок, внесенных в стандарты, и попытаемся оценить их последствия.
1. «Бюджетные» корректировки Из П(С)БУ 7 «Основные средства», П(С)БУ 8 «Нематериальные активы» и П(С)БУ 9 «Запасы» исключили упоминания о бюджетниках.
У бюджетников теперь есть свои стандарты бухучета, и необходимость в специальных оговорках отпала. С этим также связана небольшая корректировка дефиниции основных средств, приведенной в п. 4 П(С)БУ 7. Указанное определение, по сути, вернули в редакцию, существовавшую до 2009 года.
2. Последствия «гармонизаций» Из стандартов постепенно вытесняется старая налоговая специфика. В свое время в среде украинских стандартизаторов было модно «упрощать» жизнь главбухам, вводя в стандарты так называемую бухгалтерско-налоговую гармонизацию. С тех пор фискальное законодательство успело уже несколько раз кардинально измениться, а в стандартах бухучета до сих пор осталось много устаревшего и бессмысленного налогового хлама. Теперь Минфин его понемногу и убирает.
В этот раз из П(С)БУ 7 удалено упоминание о возможности применения в бухучете индексации основных средств по правилам налогового законодательства. Об этих правилах сегодня уже никто и не вспомнит, а в стандарте было разрешение на их применение.
Надеемся, это будет наукой следующим стандартизаторам. Нет никакого смысла подстраивать бухучет под быстротекущую налоговую суету. Высокомерно перефразируем известную максиму Гиппократа: бухучет longa, налоги brevis ![]() .
.
3. Обязательства: новые требования к раскрытию В П(С)БУ 11 «Обязательства» появилось требование о предоставлении в примечаниях информации о перечне и суммах обязательств, включенных в статьи баланса «Прочие долгосрочные обязательства», «Прочие текущие обязательства».
Для некоторых предприятий буквальное выполнение этого требования может иметь серьезные последствия. Ведь учетная аналитика кредиторов иногда измеряется сотнями позиций.
Надеемся, что в этом вопросе Минфин не будет абсолютизировать новые требования и согласится на прагматичное применение критериев разумной степени существенности и к примечаниям.
4. Обязательства: исключение спе- циальной классификационной нормы Из П(С)БУ 11 исключили специальный пункт 8, регулировавший «долгосрочную» классификацию обязательства, на которое начисляются проценты и которое подлежит погашению в течение двенадцати месяцев с даты баланса, если первоначальный срок погашения превышал двенадцать месяцев и до утверждения финансовой отчетности существует соглашение о переоформлении этого обязательства в долгосрочное.
Очевидно, теперь указанная ситуация будет регламентироваться общими классификационными правилами пп. 4 и 9 П(С)БУ 11 и пп. 15–17 П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах».
5. Долгосрочные обязательства: ис-ключение ограничения по поводу беспроцентных займов Из Инструкции № 291 исключили норму о том, что счета 5-го класса предназначены для учета обязательств по займам, на которые начисляются проценты.
Следовательно, теперь беспроцентные долгосрочные займы получили бесценное право учитываться на счетах, номер которых начинается с цифры 5.
Ну как это прокомментировать?
Прославленный Мирон Маркевич, по-видимому, сказал бы, что «то такое» ![]() .
.
6. Дебиторские и кредиторские долги: настоящая стоимость Эти изменения являются самыми резонансными.
В П(С)БУ 10 внесены изменения, в соответствии с которыми любая долгосрочная дебиторка должна оцениваться по настоящей стоимости. Раньше такое требование касалось только того долгосрочного дебиторского долга, на который начислялись проценты.
Здесь, правда, следует заметить, что определения настоящей стоимости дебиторского долга в стандарте как не было, так и нет. Определение настоящей стоимости можно найти в П(С)БУ 11, но оно касается обязательств. Если исходить из предположения о целесообразности применения дефиниции П(С)БУ 11 для оценки актива по П(С)БУ 10, то можно прийти к интересному выводу: Минфин искренне верит в то, что настоящая стоимость пассива должника равна настоящей стоимости актива кредитора. У этого идеалистичного представления о финансовой действительности могут быть неидеальные последствия. Ведь в таком случае главбуху кредитора, чтобы оценить свой актив, придется выяснять, как оценивает свои обязательства должник.
А у должника все тоже достаточно запутанно.
Из П(С)БУ 11 исключили оговорку о том, что по настоящей стоимости должны оцениваться только те долгосрочные долги, на которые начисляются проценты. Следовательно, в результате указанных изменений настоящая стоимость становится базой оценки для любых долгосрочных обязательств.
Такое решение стандартизаторов уже вызывало «зрадофильскую» волну обвинений укрстандартизаторов в подыгрывании налоговикам, которые проиграли многие суды налогоплательщикам по делам о дисконтировании долгов.
Возможно, это так и есть. А возможно, стандартизаторы просто стремились исправить старые ошибки. Ведь требование дисконтировать только те долги, на которые начисляются проценты, было абсолютно бессмысленным с точки зрения экономического смысла.
Указанная новация П(С)БУ 11 может показаться несколько непоследовательной. Ведь в п. 31 П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты» сохранено старое требование об оценке финансовых обязательств (кроме финансовых обязательств, предназначенных для перепродажи, и обязательств по производным финансовым инструментам) по амортизируемой себестоимости.
Если исходить из предположения, что наши стандартизаторы являются серьезными специалистами, которые подходят к своему делу системно и взвешенно, то должны признать, что указанную норму в П(С)БУ 13 они оставили вполне сознательно. Как в таком случае толковать соотношение старого требования об оценке обязательств по П(С)БУ 13 и нового требования об оценке обязательств по П(С)БУ 11?
Бесконфликтно согласовать эти требования П(С)БУ 11 и П(С)БУ 13 можно, например, распределив обязательства на финансовые и нефинансовые. Тогда мы должны признать, что П(С)БУ 13 применяется для оценки финансовых долгов, а П(С)БУ 11 — для оценки нефинансовых долгов. Это будет означать, что фактически в системе П(С)БУ оценка кредиторской задолженности подразделяется на четыре категории:
- долгосрочные и текущие финансовые обязательства (кроме финансовых обязательств, предназначенных для перепродажи, и финансовых обязательств по производным финансовым инструментам), как и раньше, должны оцениваться по амортизируемой себестоимости;
- финансовые обязательства, предназначенные для перепродажи, и финансовые обязательства по производным финансовым инструментам1должны оцениваться по справедливой стоимости (п. 31 П(С)БУ 13);
- долгосрочные нефинансовые обязательства оцениваются по настоящей стоимости;
- текущие нефинансовые обязательства оцениваются «по сумме погашения» (п. 12 П(С)БУ 11).
Честно говоря, у нас есть определенные сомнения, что именно этого эффекта стремились достичь стандартизаторы.
Такое распределение не соответствует требованиям международных стандартов, стремление к гармонизации с которыми задекларировал Минфин, обнародуя проект изменений. Ведь в системе МСФО:
- не стандартизирована база оценки нефинансовых обязательств;
- база оценки финансовых обязательств не ставится в зависимость от их долгосрочности или краткосрочности.
Возможно, работники Минфина, изменяя П(С)БУ 11, просто забыли о норме из П(С)БУ 13. В таком случае мы снова имеем коллизию. Причем с точки зрения цивилистики, как нам кажется, она может рассматриваться как сложная горизонтальная. Так что вполне возможно, что в данном случае главбух имеет дело с темпорально-содержательной коллизией норм одного уровня.
Новая норма П(С)БУ 11 об оценке долгосрочных обязательств по настоящей стоимости выглядит общей. Ведь она касается как финансовых, так и нефинансовых долгосрочных обязательств. Эта норма по сравнению со старой нормой П(С)БУ 13 более поздняя.
В свою очередь, более ранняя норма П(С)БУ 13, требующая оценки финансовых обязательств по амортизируемой стоимости, является, очевидно, более специальной, потому что касается только финансовых обязательств. Правовики в таких случаях, решая коллизии, обычно отдают приоритет старой специальной норме. Так что, опять-таки, нормы П(С)БУ 13 об оценке финансовых обязательств по амортизируемой стоимости украинскими бухгалтерами должны выполняться.
Как бы то ни было, но после внесения описанных корректировок ясности в вопросах оценки долгов стало ненамного больше. Как и ранее, нет конкретных положений об алгоритме расчета настоящей стоимости и амортизируемой себестоимости. Как и ранее, стандарты не дают разъяснений по поводу выбора релевантных ставок дисконтирования. Возможно, бухгалтеров утешит только то, что и в П(С)БУ 10, и в П(С)БУ 11 сохранились старые добрые оговорки, что определение настоящей стоимости зависит от вида задолженности и условий ее погашения. Иногда эти причудливые оговорки облегчают бухгалтерские маневрирования.
Следует отметить то, что все неопределенности, присущие П(С)БУ-оценке обязательств, имеют высокий потенциал налоговых рисков для плательщиков налога на прибыль. В alert-сообщении экспертов КПМГ О. Олеховой, В. Шекеры, Д. Ломанцовой по этому поводу указано следующее:
ЦИТАТА. «Налоговый эффект таких новшеств сложно точно оценить. Не исключаем, что такое новшество даст дополнительные основания налоговым органам настаивать на дисконтировании как процентных, так и беспроцентных займов и, соответственно, начислении дополнительных обязательств по налогу на прибыль. Такие же подходы могут быть применены к другим видам задолженностей, которые по сути являются финансовыми инструментами».
И напоследок несколько слов о переходе.
К сожалению, укрстандартизаторы, в отличие, скажем, от своих лондонских МСФО-коллег, изменяя правила учета, не устанавливают никаких специальных переходных упрощений.
Поскольку речь идет о базе оценки статей отчетности, то в данном случае мы, бесспорно, имеем классический пример изменения требований органа стандартизации, которое требует изменения учетной политики предприятия.
Никаких специальных переходных положений в комментируемом приказе нет, поэтому изменение учетной политики должно отражаться по общим правилам, приведенным в пп. 11–13 П(С)БУ 6, с полным ретроспективным пересчетом.
Если, например, предприятие 01.04.2017 г. предоставило беспроцентную финпомощь сроком на три года, то при составлении финотчета за 2019 год для надлежащей оценки суммы такого дебиторского долга придется мысленно вернуться в апрель 2017-го, вспомнить доминирующую тогда рыночную ставку процента по трехлетним займам, продисконтировать по этой ставке сумму финпомощи за период с 01.04.2017 г. до 31.12.2019 г., и рассчитать настоящую стоимость финпомощи по состоянию на 01.01.2019 г. и на 31.12.2019 г. В составе нераспределенной прибыли следует отразить разницу между продисконтованной суммой и балансовой стоимостью долга на начало 2019 года. Фактически это будет означать, что в 2019 и 2020 годах часть суммы долга окажется в доходах предприятия без соответствующей компенсации расходами 2017 и 2018 годов.
Кроме того, главбуху придется выполнить ретроспективный перерасчет данных сравнительного периода. А значит, главбух должен изменить отчетные показатели как минимум от начала 2018 года. Если предприятие отчитывается поквартально, то ретроспективный перерасчет балансовой стоимости займа придется делать несколько раз.
Избежать ретроспективного перерасчета возможно только в случае обоснованного доказывания того, что «сумму корректировки нераспределенной прибыли на начало отчетного года невозможно определить достоверно» (п. 13 П(С)БУ 6).